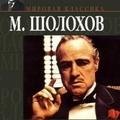"Каждая мысль о тебе"...
«Каждая мысль о тебе»
«Каждая мысль о тебе. Каждая слеза и каждая улыбка – тебе. Я благословляю каждый день и каждый час нашей горькой жизни, мой друг, мой спутник, мой слепой поводырь…»
Сколько удивительных историй случается в Петербурге в недолгую пору белых ночей! Вот и в том 1921 году литературную общественность города на Неве взволновало загадочное событие: исчез поэт Мандельштам. Исчез внезапно, в одночасье, что не могло не броситься в глаза, ибо «Ося» - быстрый, общительный, непоседливый – умудрялся появляться в течение дня в самых разных местах. Утром он, размахивая папироской и обсыпая всех пеплом, обсуждал новинку в книжном магазине, спустя час, читал, запрокинув голову, стихи в редакции, потом в казённой столовой уплетал пшенную кашу, выдаваемую строго по талонам. А вечером присутствовал на публичной лекции: то было время талонов и публичных лекций.
И вдруг – нигде. День прошёл, другой, третий… Неделя, вторая, потом – как гром средь ясного неба: Мандельштам женился. Мандельштам? Женился? Это была самая нелепая, самая невероятная новость. «Женатого Мандельштама никто не мог себе представить», - читаю в одной из многочисленных книг о том лихом времечке.
Его избранница – двадцатилетняя киевская художница Надя Хазина, познакомилась с будущим супругом полтора года назад в подвале самой большой гостиницы своего города. Подвал, правда, был не самым обычным. Его приспособили под ночной клуб, где собиралась местная богема. Клуб назывался выразительно: «Хлам». Время от времени сюда заглядывали и московские, петербургские знаменитости, приезжавшие по делам в Киев. Забежал в этот клуб и Осип, только-только приехавший из Харькова. Запрокинув, по своей привычке, голову, он сразу заприметил тоненькую девушку, глазастую, с короткими волосами. Надя Хазина, конечно, была не одна, а в «табунке» - собственное её выражение, - но он без труда оторвал её от компании. С помощью, разумеется, стихов. Стихи он читал всегда, даже на улицах, «полузакрыв глаза от удовольствия… пошатываясь и толкая прохожих».
Стихи произвели магическое действие: без колебаний она отправилась к нему прямо в номер. Без колебаний, «потому что была молода и нахальна, - так скажет она о себе впоследствии. И прибавит: - Кто бы мог подумать, что на всю жизнь мы останемся вместе?.. Мы безумно сошлись на первый день, и я упорно твердила, что с нас хватит и двух недель, лишь бы «без переживаний».
Чего-чего, а уж переживаний на её долю выпадет более чем достаточно, вот только не сентиментально-романтических, а вполне реальных. Она не была легкомысленна, просто время было такое. «Я не понимала разницы между мужем и случайным любовником… Мы готовы были в любой момент оборвать брак, который был для нас лишь случайно затянувшейся связью, и не задумываясь шли на развод, вернее, на разрыв, потому что браком-то, в сущности, не пахло», - писала она в своих воспоминаниях о том времени. В Михайловском монастыре они купили себе пару синих колечек, однако, на пальцы их не надели. Был и свадебный подарок – искусственная дешёвая гребенка с аляповатой надписью: «Спаси тебя Бог». Было и катание по Днепру. Были уютные кофейни, у костров в Купеческом саду пекли картошку. Время праздника, сплошного карнавала, когда ничего не принималось всерьёз и никто – или почти никто – не задумывался, что ждёт их дальше….
Время скоротечно. Поэзия – вечна. В этот период он пишет превосходные по своему значению стихи. Поэзия так и «прёт» из его сердца. Случайность? Думаю, что нет. Как-то Осип увёл свою подругу на Владимирскую горку и попытался растолковать юной нигилистке, что встреча их отнюдь не случайна и отношения влюблённых не оборвутся столь же внезапно, как начались. Она рассмеялась в ответ.
«Я в хоровод теней, топтавших нежный луг,
С певучим именем вмешался,
Но всё растаяло, и только слабый звук
В туманной памяти остался….
И снова яблоня теряет дикий плод,
И тайный образ мне мелькает,
И богохульствует, и сам себя клянёт,
И угли ревности глотает…
И так устроено, что не выходим мы
Из заколдованного круга,
Земли девической упругие холмы
Лежат, спеленатые туго»…
Осип перебрался в квартиру отца Нади. К тому времени, отец переселился этажом ниже. Тогда было такое время – принято переселять жильцов из квартиры в квартиру, и даже из собственных домов. Едва перетащили вещи, как в пустые комнаты влетели женщины в арестантских робах и принялись под присмотром конвоя драить полы, готовя апартаменты для какой-то, видимо, шишки. Осип Мандельштам, не обращая внимания на женщин в подоткнутых серых юбках, на матюгающихся солдат, на вёдра и штыки, принялся взахлёб читать стихи. Посвященные ей, Наде.
«…На замок закрыты ворота,
И земля по совести сурова,
Чище правды свежего холста
Вряд ли где отыщется основа.
Тает в бочке, словно соль, звезда,
И вода студёная чернее,
Чище смерть, солёнее беда,
И земля правдивей и страшнее».
Как предчувствовал, как угадывал по наитию свою дальнейшую судьбину. Вскоре они выехали «на север». Север – это Москва. «С тех пор мы больше не расставались» - пишет в своих воспоминаниях Надя. Там у жены Мандельштама обострился туберкулёзный процесс, и он почти насильно отправляет «свою Наденьку» на курорт в Ялту. Но то было лишь физическое расставание, духовная связь не оборвалась. Он писал ей письма чуть ли не ежедневно. Она подпитывала своими чувствами его поэзию. В каждом ответном письме от Осипа – его стихи.
«Нет, никогда ничей я не был современник,
Мне не с руки почёт такой.
О, как противен мне какой-то соименник,
То был не я, то был другой»…
Письма той поры сохранились и изданы, и, читая их, можно сделать вывод, что перед нами благополучная из семей. Но сама Надежда Яковлевна позаботилась о том, чтобы опровергнуть возможный миф об идеальном супружестве. Она признаётся в своих воспоминаниях: «Роль жены мне не подходила, да и время не способствовало образованию жён. Жена имеет смысл, если есть дом, быт, устойчивость, а её не было в нашей жизни… Домом не пахло – земля всегда тряслась под ногами». Мандельштам искренне недоумевал, как его жена, его второе «я», может жить другими, отличными от него, интересами. Диктуя ей только что родившиеся стихи, он сердился, что они тотчас не отпечатывались в её мозгу. … «Если что-нибудь из записанного ему не нравилось, он недоумевал, как я могла безропотно записать такую чушь, но если я бунтовалась и не хотела что-нибудь записывать, он говорил: «Цыц! Не вмешивайся!..»
Но, разумеется, Осип был и другим. Жена вспоминает, как они в Батуми ночевали на открытой террасе и, проснувшись, она с удивлением увидела, как Мандельштам листочком с написанными стихами отгоняет от неё москитов. Позже она напишет в своих воспоминаниях: «Боже! Как хорошо нам было вместе – почему нам не дали дожить нашу жизнь».
А потом снова Москва. Россия бурлила. Шло время сталинских репрессий. Как всякий настоящий поэт, Мандельштам был плохим конспиратором. Вырвавшиеся у него антисталинские стихи следовало бы немедленно уничтожить, а он читал их направо и налево. Когда его арестовали, он не отпирался: да, автор сталинских стихов, да, читал их разным людям. Его отправили в ссылку. Жена вольна была остаться в Москве. Или следовать за ним. Она выбрала последнее
«За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей,
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.
Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей:
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей»…
Она, по сути, спасла его в ссылке, или, так сказать, продлила его жизнь. В Воронеже появился новый цикл стихов Мандельштама. Среди них – стихи-признания свое Наденьке. Вскоре после окончания ссылки последовал другой арест – аккурат, на первое мая. Надежде вслед за мужем ехать в этот раз запретили. О его последних месяцах, неделях и днях сохранилось множество полулегенд, полусвидетельств. Они рисуют образ легендарного сумасшедшего, маленького человечка в драной одежде, который выменивал на сахар табак, а если не было сахара – на стихи, читаемые любому, кто соглашался слушать. О смерти его также рассказывают по-разному. Но более достоверную картину нарисовал Варлам Шаламов, на собственной шкуре познавший все «прелести» лагерной жизни.
Надежда Яковлевна ушла в мир иной, так и не узнав, в какой именно день перестало биться сердце её мужа. Двумя месяцами ранее, в одну из бессонных ночей, она написала ему письмо – на случай, если он чудом переживёт её. Я без слез не могу его читать, ибо для меня оно является эталоном эпистолярного жанра.
«Ося, родной, далёкий друг! Милый мой, нет слов для этого письма, которое ты, может, никогда не прочитаешь. Я пишу его в пространство. Может, ты вернёшься, а меня уже не будет. Тогда это будет последняя память. Каждая мысль о тебе. Каждая слеза и каждая улыбка – тебе. Я благословляю каждый день и каждый час нашей горькой жизни, мой друг, мой спутник, мой слепой поводырь…
Не знаю, жив ли ты, но с того дня я потеряла твой след. Не знаю, где ты. Услышишь ли ты меня. Знаешь ли, как люблю. Я не успела тебе сказать, как я тебя люблю. Я не умею сказать и сейчас… Ты всегда со мной, и я – дикая, злая, которая никогда не умела просто заплакать, - я плачу, я плачу, я плачу».
И – самый конец: «Это я – Надя. Где ты?»
На этот вопрос нет ответа и поныне. Найдены три крупных захоронения, где покоятся останки узников владивостокской пересыльной тюрьмы. Но в какой из них Мандельштам, мы никогда не узнаем. Но его душа обрела покой в 1980 году. Рядом с простым дубовым крестом, что стоит на могиле Надежды Яковлевны на Старокунцевском кладбище, лежит небольшой камень, на котором выбито: «Светлой памяти Осипа Эмильевича Мандельштама».
Перечитала своё эссе и задалась вопросом: а где же собственное восприятие и мнение о любви? Чему меня научила поэзия Мандельштама? Ответ прост – тому, о чём рассказано выше.